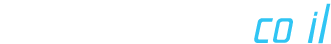Художник Саша Окунь о политике, теле и бессмысленности вопроса "что вы имели в виду?" Интервью
Израильского художника Сашу Окуня очень хочется называть художником-монументалистом, и не только из-за размера его работ. Герои его картин всегда словно бы "больше чем жизнь". Они застывают в вечности, застигнутые в моменте грандиозного жеста. Его выставки сегодня проходят сразу в двух городах Израиля и скоро откроются в третьем. Саша не только художник, проводящий вас через эмоциональный шторм, но и автор нескольких книг, тонкой и ироничной литературы.
Мы встретились с Сашей в его студии и поговорили о том, как он работает, об отстранённости художника от физиологии бытия и непрерывного пребывания в ней, об упрямстве искусства, о том, кто и как устанавливает цены на работы, о кризисе массовой культуры и о том, может ли искусство быть "правым" или "левым".
Беседовала Татьяна Савин.
Хотелось бы начать с вашего отношения к телу человека, оно сложное для восприятия зрителем. Вы проявляете телесность в не самой приглядной её форме.
Вы знаете, я как-то ехал на встречу в галерею, и я знал, что непременно меня спросят. А вот что вы имели в виду? И пока я ехал, я от ужаса придумал притчу. Представьте себе, что человек, он же зритель, да? Человек идёт по дороге, идёт, идёт, идёт. Кругом леса, поля... Подустал человек и вдруг видит какое-то здание, безумно красивый дворец. Ворота распахнуты, он входит внутрь. И видит накрытые столы. И чего там только нет. Ну, абсолютно всё. Кухня японская, кухня китайская, перуанская. Вина самые роскошные со всех концов мира, виски, джин. Всё, о чём только можно мечтать. Он что-то выберет, поест, выпьет, расслабится. Так вот, скажите, его очень волнует то, о чём думал повар, когда делал вот эти блюда?
Это абсолютно не имеет никакого значения! Потому что человек, который что-то делает, он, конечно, чего-то там думает, поскольку он всё-таки человек. Но очень часто он думает что-то одно, а получается что-то другое.
Сейчас на выставке в Петах-Тикве серия. Два мужчины и женщина вверх ногами. Я делал это, мне было дико интересно, я уж не помню, чего я там придумал, пока не пришел ко мне мой добрый приятель Давид. Вот насколько я терпеть не могу искусствоведов, вот настолько он прекрасен. И он посмотрел на эти рисунки и говорит: "Ну, так это же Рембрандт!".
А я смотрю, и действительно, это ведь абсолютно просто туша быка, которая находится в Лувре и которой потом пользовался Сутин. Это, видимо, было где-то глубоко в подсознании. В Лувре я бывал не один раз, и знаю его довольно неплохо. Наверное, это и был тот триггер, который заставил меня делать. Но, если бы Давид мне этого не сказал, то я бы на вопрос "О чём вы думали?" ответил бы что-нибудь другое.
Но ведь вы же даете название своим работам. Это ли не ответ на ненавистный вопрос "что хотел сказать автор?"
Даю. Потому что, по большей части это у меня просят. Вот с этой работой тоже было прекрасно. Куратор на меня насела, как называется, как называется, и уже сил не было. Я написал "Два агента ШАБАКа и неизвестная женщина". Два дня было тихо, потом она спросила: "А можно без названия?" Ну, можно.
Но иногда я даю название. Потому что, как правило, я хочу снизить пафос. Я пишу "Архитектор Шломо такой-то и соседки такие-то". Это моментально из вот пафосного искусства, снижает на уровень бытовухи. Почему-то архитектор, да ещё и соседки…
Мне кажется, вы делаете ровно наоборот. Берёте что-то профанное, обычное и сакрализируете его…
И это есть. Вот видите, вы начинаете мне говорить про то, что я имел в виду…
Ролан Барт говорил про смерть автора, и вы тоже про это говорите… (зритель додумывает за автора)
По большей части работы приходят сами. Непонятно откуда взявшееся заставляет тебя делать то, что ты сам не очень хорошо понимаешь. Я очень люблю фразу Цветаевой: "Настоящий художник никогда не скажет "я сделал", он скажет "у меня получилось". Действительно плохие вещи мы делаем сами. А хорошие они случаются, они получаются. Ты пытаешься делать максимум того, что ты можешь и умеешь.
Я преподавал почти сорок лет, и часто на вопрос студенту "Почему ты делаешь так?", получал ответ "Мне так хочется". В искусстве нет "хочется", в искусстве есть "не могу по-другому". Я делаю это потому, что у меня нет другого выхода, кроме как сделать это вот так. А дальше начинается. Одному удобно в носу ковырять мизинцем, а другому указательным пальцем. Каждый выкручивается так, как он может.
Вот в тех работах, которые сейчас выставлены, чёрно белые рисунки, там я пользуюсь техникой, которую изобрёл сам. А почему я её изобрел? У меня не было выхода. Я не мог другим способом добраться до чего-то, что есть я. Опять-таки, мне трудно это сформулировать. Более того, есть вещи, которые не надо формулировать, их лучше оставить. Вот не надо трогать Бога.
Вы говорите, что он трогает вас…
Он имеет на это право. А я трогать его права не имею, потому что я человек, он – Бог.
Почему нет правых художников. Левые существуют и их продвигают, а правые…
Я не правый, не левый, я…
Нормальный?
Я в позиции "чума на оба ваших дома". Художник не может работать из принципа "Чего изволите? И вот вам это, и вот вам это, и вот вам это". Искусство, по большому счету, не живёт этим.
Во времена царя Соломона, вполне возможно, была какая-то газета, и в ней писали, что царь Соломон в большом непорядке. Нехорошо поступает там и сям, а уж царь Давид вообще... ну, что это такое? Увёл жену у генерала, да еще отправил на смерть. Некрасиво. И кого они интересуют, кроме трёх специалистов, которые на этом сделают кандидатскую диссертацию. А Песнь Песней – вот она.
Искусство занимается проблемами, которые не связаны с конкретным делом. Искусство интересует универсальное воплощение трагедии.
Как на вас повлияло 24 февраля 2022-го и 7 октября 2023-го? Очень многие художники какое-то время просто не могли рисовать и создавать, чувствовали свою полную ненужность этому обществу.
Я эту ненужность чувствую столько лет, сколько я живу.
Художник был не нужен обществу задолго до седьмого и до двадцать второго. Он был нужен обществу раньше, не сегодня. Вот объявят забастовку мусорщики, через три дня получат всё, что требуют. Врачи – также, даже без музыки народ ошалел бы, все в наушниках ходят. А художники забастуют? И ничего… Есть, конечно, индивидуумы, которые пытаются сохранить чувство собственного достоинства...
А по отношению к стране, в которой я родился, я не чувствую ничего, кроме омерзения. Вот и я бы ее определил следующим образом: это страна сказочной гнусности, подлости, хамства и всего чего угодно, с огромным количеством хороших людей.
То есть если вам сейчас предложат сделать выставку в Санкт-Петербурге, откажетесь?
Предлагали. Я отказался. Не в Петербурге, но на той территории. И издательство ко мне обращалось, я бы там мог новую книгу издать. Это хорошие люди, они против войны, но они там. На территории России. И я не могу. Больше того, дело доходит до смешного. Я русскую водку не покупаю. Мне самому смешно, но это какая-то персональная гигиена.
Что касается реакции на события… Вы знаете, я всегда с каким-то омерзением отношусь к этому… к тем, кто сразу после 7.10 начал тут же выдавать на-гора. Это всё было настолько ужасно…
В быстрой реакции на событие нет пластического решения. Когда ты реагируешь вот моментально, выходит какой-нибудь ужас – куколка брошенная, такая пошлость получается.
Когда Мао спросили, что он думает о Французской революции, Мао задумался и сказал:"Вы знаете, прошло еще слишком мало времени".
А те, кто не мог рисовать… Вот ежели есть душа, то по ней прошлись огнемётом, выжгли всё, там ничего не осталось. Только ужас, непонимание, боль ...
Пока там что-то реанимируется, пока там что-то взойдет, пока ты поймешь, как с этим что-то сделать, да так чтобы это не было пошлостью...
А я если не работаю, то я схожу с ума. Как муравей. Я должен все время что-то делать. Я и книжки начал писать, чтобы руки занять.
Печатаете или пишете от руки?
От руки. У меня бывает, "послеродовая депрессия" после большой выставки. А чего делать-то? Только работать.
Искусство – это всегда немного политика. Но есть ощущение, что ваше искусство в стороне от неё. При этом сейчас все феминистские движения считают вас актуальным художником за бодипозитив. За непредвзятое отношение к женскому телу…
Я действительно терпеть не могу все эти 90-60-90 и всех этих Барби. Я говорю не про размер, а про правила. Я ненавижу моду. Если все носят бежевый цвет, это не означает, что я должен его носить. Это опять попытка загнать всех стадом куда-то.
Вы говорите тело. У меня был приятель, царствие ему небесное. Он был самый молодой доктор медицинских наук в Москве, безумно талантливый человек, сосудистый хирург. И вот у него вызов. Приезжает, его ведут… из-за занавески торчит нога. Ему говорят вот, лечите. А он отвечает: "Я не лечу ногу, я лечу пациента".
Я не вижу тела. Я вижу людей. Понимаете, для меня это люди. И то, что я могу давать им имена, это неслучайно.
Это не мое изобретение. У меня была первая в Израиле музейная выставка. И там обнаженные были такие, сякие. И опять с меня требовали названия. И Заара Шац посоветовала давать им имена. И я начал. Причём, с намеком. Вот Андре М. он Андреа Мантенья. Кто догадался, тот молодец. Появилась ещё одна игра.
Я рисую людей, а люди вот такие они. Когда ко мне начинают лезть "что же ты таких уродов рисуешь", то я вспоминаю анекдот, как мужик из Греции шлет жене фотографию и пишет: "Это я и Аполлон, Аполлон слева". Мы не можем так видеть. И я их так не вижу.
И себе вы тоже ничего не прощаете, получается? Своему телу.
А зачем надо прощать? Я наблюдаю. Нет, ну я же вижу, как оно изменилось. Вот это вот умирание, изменение, которое с ним происходит, это меня завораживает. Всё на свете – интересное и хорошее, оно несовершенное. Когда у евреев строят дом, надо оставить угол недоделанный. Это от храма. В этом есть другой, более высокий смысл. Нет в жизни прямых линий.
Вы правша или левша?
Левша.
А чем вы сейчас пишете?
Только рисунки.
Вы бросили масло из-за здоровья?
Да, я не могу сейчас им работать.
Вы много работали на фанере. Вас раздражает как прогибается холст?
Мне надо, чтобы поверхность сопротивлялась. Она сопротивляется в бумаге, потому что бумага, как правило, на чём-то. И она сопротивляется на дереве.
Я придумал особый грунт. Он основан на кварце. Пилят всякие известняк, мрамор, получается крошка. Я покупаю ту, которая мне подходит по текстуре. Дальше я все это замешиваю с клеем. И грунтую. Проложил четыре слоя – этого достаточно. Но иногда кладу и пятый, и шестой. Я делаю всё, чтобы оттянуть начало… Знакома вам боязнь белого листа?
Затем шлифую вручную. Большую работу можно и в машину запихнуть. И тут начинаются игры с фактурами. Могу добиться разной поверхности, хоть "лакированной", блестящей. Получается, как бы стена. Таким образом я делаю фреску. А потом всё-таки выхода нет, и надо начинать…
Вы сказали, что долго начинаете, а потом, быстро работаете? Делаете эскизы, сетку, как переносите с эскиза?
Невозможно автоматом перенести эскиз на другой формат. Другой формат требует других решений. Вам придётся всё равно что-то менять. У тебя есть эскизы, много эскизов. Ты уверен, что ты схватил Господа Бога за бороду… А вот не тут-то было. Они, начинают двигаться, они начинают меняться. Живут своей жизнью абсолютно.
Писал я как-то картину, три метра. И на этой картинке тётка здоровая крутила мужичка. И вот она его крутила, крутила. А я что? Красил. И вдруг, постепенно, мужичонка начал помирать, и помер! И она крутит трупик. Я сел против работы, кофе сделал… смотрю и думаю, Боже мой, ну почему он умер? В эскизах этого нет. И тут мне в голову приходит замечательная мысль. Единственная ситуация, когда женщина держит на руках мёртвого мужчину, неважно какого размера, – это Пьета. В моей работе есть глубокий религиозный смысл, подумал я, и очень обрадовался.
И стал красить дальше, и красил, и красил… целое лето красил. Это был и такой пейзаж, и такой пейзаж. И так, и этак, и так, и эдак. И ничего не шло. А потом у меня случился криз и я всё стер и часа за два, накрасил пейзаж пустыни.
И всё устаканилось. Я чуть не плачу сижу. Я лето угробил на то, чтобы сделать этот пейзаж. И всё псу под хвост. И теперь, в течение двух часов, я накрутил быстренько что-то…
И тут я соображаю, что она его крутит, как крутят курицу или петуха, на Йом Кипур. А на Иерусалимском жаргоне петух называется "гевер" (иврит – мужчина).
И дальше, это же персональные грехи. А коллективные грехи они нагружали на козла, которого прогоняли в пустыню. Поэтому картинка упиралась и не хотела ничего другого. То есть она как бы уже где-то там была. И надо было её просто реализовать. И когда в этой реализации ты делаешь ошибку, как я с этим пейзажем… она просто упёрлась всеми четырьмя ногами и никуда не шла.
А маслом пишете по классике? Имприматура*, подмалёвок**, лессировки***?
Да-да, я это очень люблю. Лессировки дают возможность создать такой цвет, который потом второй раз сам не сделаешь. И я от этого сам тащусь.
Вы работаете сразу над несколькими работами, масло же долго сохнет?
Конечно, поточный метод. Никаких завтраков бесплатных не бывает. Это такая техника. Но этот подход лишает, во многом, того, что называется спонтанностью.
Вы говорили, что эта техника умирает. Попробовали другие медиа и бросили, видео-арт, инсталляции?
Всё на свете – это материал и инструмент. Вопрос, как ты с этим обращаешься. У меня видеоинсталляция была в "Музее Израиля" на выставке, посвященной еде. Вот там были три монитора, на которых происходило всякое. Потом здоровенный, девять метров высотой, бюрократический собор я построил в Эйн Ходе. Там были молельные автоматы, которым молитву написал Слава Ганелин, великий музыкант. Так можно было бросить пять шекелей, и тогда сразу играла молитва.
Или, вот большой проект, который был реализован в Эйн Ходе, про "Сто одни ворота", там я заполонил весь музей от входа до выхода. И Слава Ганелин написал дико смешной Еврейский реквием.
Там идея была такая, прилетело существо с другой планеты, ходит по району "Меа шеарим" и строчит доносы себе в центр. Ну, а понимает оно всё по-своему, через пень колоду и всё не так. Получается очень смешно. А напоследок, перед тем светом, был подиум, как те, на которых кладут тело перед погребением. А сверху был настелен ещё один потолок. Оттуда спускались ангелы. Самое интересное, что люди, люди приходили – ложились на этот подиум. В тот момент, когда они ложились, включался Реквием. Вот такой: "Это что такое?" Человек не понимает, что с ним произошло. Он соображает. Он начинает торговаться с Богом. "Об этом не может быть и речи. Я сейчас не могу". Дальше начинается "За что? Что, за это?" Дальше торг "Послушай, я обещаю, что больше этого никогда не будет". А Бог молчит. Слава сделал такую замечательную музыку и эффекты… как будто все время лопаются сосуды, разрывается плоть. Человек кричит жене "Циля, дети, ну скажите ему что-нибудь". Он же не понимает, что его никто не слышит. Начинается бунт. "Ты негодяй, ты всем обещал милосердие. Но где твоё милосердие? Вот где?" И на это ответа нет. И тогда только в самом конце он тихонечко: "Прости". И, фьють, душа вылетает.
Дайте мне бюджет, я вам вообще заполоню всё, что угодно. Я живописью занимаюсь тогда, когда у меня нет возможности заниматься чем-то ещё.
Сейчас можно всё. Является ли это ловушкой для художника…
Абсолютно…
Или это иллюзия, что можно всё?
Как говорил колумбийский философ Николас Гомес Давила, "если художнику нечего сказать, он тут же примыкает к авангарду". Это правда. Потому что стая. Идёшь за стаей, и всё, ты как все.
Также нет ничего более опасного для художника, чем абсолютная свобода. Вот тебе все можно. И что? Очень многое возникает в преодолении. Как художник ты теряешь от вседозволенности.
Действительно ли есть вседозволенность?
Её сегодня нет абсолютно. Как сказал Пикассо: "Самая большая проблема сегодняшнего авангардного искусства то, что нет сильной академии напротив". Он сказал это в начале 30-х, 40-х годов. И он был абсолютно прав. Академия, которая была, она сгнила, и её сбросили.
Революция в искусстве, цунами, которое было поднято еще в самом начале прошлого века, эта волна докатилась, и схлынула. Любая революция проходит три этапа. Первый этап – это герои. Второй этап – конформисты, а третий – циники. И мы сейчас на третьем этапе. Сегодняшняя академия – это циники. Они забрались на трон. Да, вместо того чтобы надеть на себя мантию и корону, они сидят в рваных джинсах и так далее. Но ведут-то себя они точно так же. И ежели кто-то чего-то чуть там, шаг влево, шаг вправо, они из вас котлету сделают.
Поговорим про ту часть, в которой художник обычно не очень хорош. Про финансовую. Кто решает, сколько стоит работа художника?
В Израиле, по большому счету, владельцам галереи продавать картошку или продавать картинки разницы нет, был бы доход.
Одна очень известная дама, критик, как-то мне предложила сотрудничество. А дальше галерея берет 50%, а она берет 25%. Значит, мне остается 25% – это значит, что художника просто обирают.
Мне дико повезло, потому что в моей жизни случился патрон. Майкл Маркс. До этого я жил, как все. И, естественно, я кормился преподаванием, как кормится большинство художников. Хотя есть ребята, которые и еще более тяжелом положении. Я-то ещё был одним из четырех людей, у которых была полная ставка в "Бецалеле".
Началось с того, что некий парень стал покупать у меня небольшие всякие картинки, прямо скажем, за сильно небольшие деньги. И этот парень продал картинку Майклу Марксу. Я про это ничего не знал. А потом тот же парень предложил заключить контракт… но выяснилось, что он хотел "коммерческие" работы. Я с ним разругался и написал письмо Марксу, что вот, мол, так и так, я не готов, значит, типа в номерах служить. Не всё на продажу. Понимаете, я не умею халтурить.
И Майкл стал моим патроном. Он мне оплачивает мастерскую, он мне платит зарплату, он продвигает мои работы… И он никогда ничем не пытался вмешаться в то, что я делаю. Максимум, иногда он может попросить вместо трёх метров сделать два восемьдесят, потому что есть ограничения по пересылке и продать большую работу труднее. Это – редкость.
Кто назначает цену картины?
Когда меня это спрашивают, я отвечаю, что у работы есть две цены. Первая – картина стоит столько, сколько вы считаете. Если считаете, что стоит миллион, значит она стоит миллион.
А вторая цена – если вам жрать нечего.
Я ждала другую вторую. Когда ты стал крутым художником и работы продаются задорого на аукционе, но тогда ты уже с этого ничего не имеешь.
Совершенно верно. Как говорил справедливо Ренуар, хороший бифштекс достается тогда, когда нет зубов разжевать.
Бойкот израильского искусства в разгаре, но во время войны ваша работа выставлена в "Альбертине" в Вене. Как это произошло?
Когда я разговаривал об этом с директором музея Клаусом Шредером, я сказал ему, что для того, чтобы выставить сегодня израильского художника, нужны яйца. Он говорит: "Да. Но мы это делаем осознанно, потому что мы на стороне Израиля".
А где сейчас эта работа?
Сейчас эта работа будет как раз на выставке в галерее "Дины Реканати" в Герцлии.
То есть, у вас открывается параллельно третья выставка?
Да. Мне очень хотелось, чтобы эта работа была выставлена в Израиле. При этом экспонироваться она будет немного по-другому. Будет ещё музыка на фоне, Гии Канчели, Арво Пярта, и Шнитке. 25 октября открытие, приходите.
__
На данный момент в Израиле проходят две выставки Саши Окуня.
Выставка "Тина Калишер, Йоси Шапира и другие" – музей искусств Петах Тиквы.
Выставка "Тело" – Corpus, Тель-Авивский музей искусств
25 октября открывается выставка "Врата правосудия" в галерее Фонда искусств Дины Реканатив в Герцлии
__
*Импримату́ра – в живописи первый слой краски, цветная тонировка поверхности готового грунта.
**Подмалёвок – подготовительная стадия работы над картиной, проработка светотенью объёма изображаемых объектов, тёмными тонами – тени, светлыми – освещённые части. Обычно выполняется в 2 цвета, реже – подмалёвок многоцветный.
***Лессировки – нанесение красок на подмалёвок "тонкими, просвечивающими слоем", каждый слой просушивается отдельно. Смешение цветов при множественных лессировках оптическое.
__
Саша Окунь (род. 1949) – советский и израильский художник, педагог, писатель
Репатриировался в Израиль в 1979 году.
Доцент Израильской Академии Художеств Бецалель, где преподавал почти сорок лет и адъюнкт-профессор Беллармин-Колледжа (Луисвилль, США).
Живёт и работает в Иерусалиме.
Его работы находятся во многих музеях мира, в галереях и частных коллекциях.